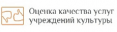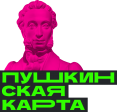История семьи Калмыковых
Я, Калмыков Александр Георгиевич, родился 24 апреля 1947 г. в послевоенном Ленинграде, в котором мой отец, Георгий Николаевич Калмыков, жил с конца 1930-х гг. до самой смерти, включая и весь период ленинградской блокады.
Г.Н. Калмыков принадлежал к дворянскому роду, история которого прослеживается с последней трети XVIII в., когда его прапрадеду Ивану Колмыкову, имевшего обер-офицерский чин, по завершении русско-турецкой войны Екатерина II, пожаловала землю и 1000 душ крепостных крестьян в Курской губернии.
Родовое поместье Калмыковых с большим фруктовым садом и мельницей на речушке Осколец находилось в деревне Песчанская Пристань (позднее Песчанка) в Старооскольском уезде. Им управлял Николай Георгиевич Калмыков, мой дед. На своей земле построил в 1912 г. винокуренный завод, который благополучно работает до сих пор, снабжая своей продукцией, среди прочих, и санкт-петербургскую фирму «Ливиз». Он умер за несколько недель до начала Первой мировой войны от дизентерии, попив квасу после косьбы с песчанскими крестьянами.
В соседнем с Песчанкой селе Алексеевка было имение его брата Алексея. Имение было побольше нашего, и на его просторной веранде часто собирались на чаепитие обе большие калмыковские семьи. Деда Алексея в конце 1918 – начале 1919 г. расстреляли красные в Житомире. За что – неизвестно, в белой армии он не служил, и к тому времени ему было уже около шестидесяти лет.
Своему третьему сыну, Сергею, мой прадед, коллежский советник Георгий Яковлевич Калмыков, 30 лет прослуживший в Департаменте общих дел Министерства Государственных имуществ, земли не выделил, но дал ему высшее образование. Сергей Георгиевич имел свой дом в Старом Осколе, где работал земским ветеринаром.
Моя бабушка Ольга Ивановна Калмыкова (Динтер), немка по отцу и швейцарка по матери, после смерти мужа в июле 1914 г., незадолго до Октябрьской революции оставила имение на попечение своей сестры и перебралась вместе со старшими детьми в Старый Оскол. С собой она взяла пианино и, многие годы бывшая «при муже», начала работать учителем музыки. После революции стала преподавать в школе сначала первой, а потом и второй ступени историю, географию и иностранные языки, которые она знала в большом количестве. Из документов, сохранившихся в семейном архиве, видно, что она много работала и во время кампании по ликвидации неграмотности, разъезжая, будучи уже немолодой, по Старооскольскому уезду.
Среди ее документов конца 1920-х гг. есть полустертая машинописная выписка из решения какого-то местного органа власти о возвращении ей, бывшему «нетрудовому элементу», избирательных прав. Вспоминаю, в этой связи, среди фамильных документов небольшой листок бумаги, заверенный в 1918-1919 гг. сельсоветом. Он говорит о том, что работу своей сушилки для фруктов до революции она обслуживала сама вместе с детьми, а наемным трудом не пользовалась. Этот предусмотрительно оформленный документ лукавит, мне тетушка рассказывала иное. Как бы то ни было, репрессиям бабушка не подвергалась и вписалась в советскую повседневность за счет своих собственных усилий.
В Ленинград она переехала перед войной вслед за детьми. Ее четыре дочери и сын Георгий, мой отец, стремясь получить высшее образование, один за другим находили возможность для этого переезда. Дворянским, тем более помещичьим, детям поступить в вуз было очень трудно. У старшей из дочерей, Татьяны, документы для поступления на филологичесий факультет приняли только на третий раз и то с условием подготовить к поступлению вместе с собой и некую женщину, комиссара, которая всячески помыкала ею, заставляла убирать за ней в их общей комнате в общежитии и не выказывала никаких талантов к учебе. Очевидно, тем не менее, со своей задачей Татьяна справилась, поскольку университет она закончила, работала по специальности, в том числе редактором в Детгизе. Тут уместно будет упомянуть, что ее дед по материи, Иоганн Динтер, купец 2-й гильдии и почетный гражданин Киева, имел на Крещатике большой книжный магазин и поставлял книги в киевский императорский университет Св. Владимира.
Одна из ее сестер, Галина, стала физкультурным врачом, работала в институте Лесгафта, другая - Ольга, или Люся, как ее все звали в семье, стала геологом. Двое из оставшихся детей Николая Георгиевича Калмыкова, Мария и Георгий, высшего образования не получили. Мой отец, поработав несколько лет чертежником на Балтийском заводе, пошел, в конце концов, по строительной части. На Коксогазовом заводе он, не имея специального образования, стал перед самой войной начальником отдела капитального строительства и оставался в этой должности вплоть до ухода на пенсию в начале 1970-х гг. Превращение бывших заводских газгольдеров, заметно украшающих вид Обводного канала, в цех металлокерамики – его рук дело.
В 1917 году моему отцу было 12 лет. Как личность, он целиком сформировался в годы советской власти. На фотографии начала 1920 – х гг. молоденький отец в песне со шнурком стоит в бригаде «синеблузников», бичевавших в своих спектаклях толстопузых буржуев, помещиков, попов и прочих отрицательных типажей старого режима. Он окончил педагогическое училище, преподавал в черчение, математику и русский язык. По всей видимости, на нем, как, впрочем, и на других детях, как и на мне, и на моей сестре Елене сказалась выбранная бабушкой стезя учительницы.
На одной групповой фотографии из семейного архива рядом с О.И. Калмыковой, своей учительницей, сидит девочка с серьезным, сосредоточенным выражением лица. Это моя мать, Шестакова Серафима Матвеевна. Я должен быть благодарен Октябрьской революции. Не будь ее, вряд ли смогли пожениться и обрести потомство сын помещика и дочь сельского писаря соседнего с Песчанкой села Знаменское. Ее дед, Лука Романович Шестаков был самым, что ни на есть черносошным неграмотным крестьянином. Ходил и летом и зимой босым, своего надела, насколько я помню материнские рассказы, не имел, нанимался к соседям и на пахотные и на всякие другие работы. Его сын – Матвей Лукич, выучился грамоте и по деревенским меркам выбился в люди. Дом у него был, в отличие от многих других соседских домов, «под железной крышей», как отмечала мать. Жил он с семьей на втором его этаже, а на первом держал лавочку.
Когда настала первая мировая война, его взяли в армию. В первом же бою он попал в плен, и провел в нем немало лет. После возвращения из плена, его, бывшего писаря, знавшего основы сельского судопроизводства, быстро сделали волостным судьей. Время было лихое, деревню начинали переламывать на колхозный лад, шло «раскулачивание» зажиточных крестьян, их осуждение, высылки. Работы деду, и, по всей видимости, работы неприятной, тяжелой хватало. Через несколько лет его сделали председателем колхоза. Легче ему не стало. Был момент, рассказывала мать, когда он сам чуть было не попал под тяжелую статью за «укрывательство» урожая. Весной он просчитался с оценкой будущего урожая по его всходам и занизил плановые показатели в сравнении с собранным зерном.
Как он смог выкрутиться, я не знаю, но, отсидев под арестом несколько недель, вскоре выехал на Урал, в Свердловск и там тихо жил у своего старшего сына Всеволода Шестакова, который в военные годы станет парторгом ЦК на Уралмаше, а в конце войны и до смерти в середине 1950-х - директором другого уральского промышленного гиганта: Уралхиммаша.
А моя мать также, как и отец, отучившись в Старом Осколе в педагогическом техникуме, вступила в комсомол, стала учительницей, а затем и заведующей школы. Было ей тогда всего 19 лет. Ее комсомольская молодость была бурной. Только незадолго до смерти, она стыдясь, рассказала, что и ей довелось участвовать в раскулачивании, что в нее тайком стреляли, однажды пытались поджечь школу, которую она охраняла по ночам.
Она рвалась уехать их родных мест в большой город учиться и работать, но ее, как ценного работника, под разными предлогами райком комсомола не отпускал, не давал направления в институт, без которого выехать было невозможно. Лишь в середине 1930-х гг. удалось получить путевку в Ленинградский Технологический институт. Она выучилась на стекольщика, начала даже писать диссертацию о промышленном производстве цветного стекла, накануне войны изготовила даже опытные образцы сваренного по ее технологии стекла.
В Ленинграде она вновь встретилась со знакомым еще по Старому Осколу Георгием Калмыковым. Ее, члена большевистской партии, долго отговаривали от брака с сыном помещика. В ее личном деле мне удалось прочитать подробную объяснительную записку матери по этому поводу, адресованную в т.н. «первый отдел» института.
В сентябре 1941 г. с маленьким ребенком, моим старшим братом Сергеем, последним поездом, прошедшим через Мгу, она вырвалась из сжимавшегося вокруг Ленинграда кольца блокады и уехала в эвакуацию в Свердловск. Отец остался. Остались и все его сестры, а О.И. Калмыкову они отправили самолетом за Урал. Великое счастье, что все они в годы войны остались целы и сразу после войны вернулись в ставший родной им всем город.
Наша семья из пяти человек, жила после войны в двух комнатах коммунальной квартиры на проспекте Огородникова. Сейчас этому проспекту вернули его дореволюционное название – Рижский. Получив это жилье, отец сам заделал в стене одной из комнат дыру от разорвавшегося снаряда. В отдельную трехкомнатную «хрущевку» на Средней Рогатке мы переехали в начале 1960-х. Наш дом, некоторое время бывший последним на юге домом в городе, строил в качестве прораба мой отец, закончивший к тому времени строительный техникум.
Живя в этом доме, все мы, дети Г.Н. и С.М. Калмыковых, получили высшее образование. Мой брат стал физиком, сестра – учителем русского языка литературы, а я закончил исторический факультет ЛГУ, в настоящее время уже более четверти века работаю в Музее политической истории. Я сам уже давно дедушка, моим внучкам-двойняшкам, дочерям старшего из двух сыновей, в этом году исполнилось по 18 лет.
Г.Н. Калмыков принадлежал к дворянскому роду, история которого прослеживается с последней трети XVIII в., когда его прапрадеду Ивану Колмыкову, имевшего обер-офицерский чин, по завершении русско-турецкой войны Екатерина II, пожаловала землю и 1000 душ крепостных крестьян в Курской губернии.
Родовое поместье Калмыковых с большим фруктовым садом и мельницей на речушке Осколец находилось в деревне Песчанская Пристань (позднее Песчанка) в Старооскольском уезде. Им управлял Николай Георгиевич Калмыков, мой дед. На своей земле построил в 1912 г. винокуренный завод, который благополучно работает до сих пор, снабжая своей продукцией, среди прочих, и санкт-петербургскую фирму «Ливиз». Он умер за несколько недель до начала Первой мировой войны от дизентерии, попив квасу после косьбы с песчанскими крестьянами.
В соседнем с Песчанкой селе Алексеевка было имение его брата Алексея. Имение было побольше нашего, и на его просторной веранде часто собирались на чаепитие обе большие калмыковские семьи. Деда Алексея в конце 1918 – начале 1919 г. расстреляли красные в Житомире. За что – неизвестно, в белой армии он не служил, и к тому времени ему было уже около шестидесяти лет.
Своему третьему сыну, Сергею, мой прадед, коллежский советник Георгий Яковлевич Калмыков, 30 лет прослуживший в Департаменте общих дел Министерства Государственных имуществ, земли не выделил, но дал ему высшее образование. Сергей Георгиевич имел свой дом в Старом Осколе, где работал земским ветеринаром.
Моя бабушка Ольга Ивановна Калмыкова (Динтер), немка по отцу и швейцарка по матери, после смерти мужа в июле 1914 г., незадолго до Октябрьской революции оставила имение на попечение своей сестры и перебралась вместе со старшими детьми в Старый Оскол. С собой она взяла пианино и, многие годы бывшая «при муже», начала работать учителем музыки. После революции стала преподавать в школе сначала первой, а потом и второй ступени историю, географию и иностранные языки, которые она знала в большом количестве. Из документов, сохранившихся в семейном архиве, видно, что она много работала и во время кампании по ликвидации неграмотности, разъезжая, будучи уже немолодой, по Старооскольскому уезду.
Среди ее документов конца 1920-х гг. есть полустертая машинописная выписка из решения какого-то местного органа власти о возвращении ей, бывшему «нетрудовому элементу», избирательных прав. Вспоминаю, в этой связи, среди фамильных документов небольшой листок бумаги, заверенный в 1918-1919 гг. сельсоветом. Он говорит о том, что работу своей сушилки для фруктов до революции она обслуживала сама вместе с детьми, а наемным трудом не пользовалась. Этот предусмотрительно оформленный документ лукавит, мне тетушка рассказывала иное. Как бы то ни было, репрессиям бабушка не подвергалась и вписалась в советскую повседневность за счет своих собственных усилий.
В Ленинград она переехала перед войной вслед за детьми. Ее четыре дочери и сын Георгий, мой отец, стремясь получить высшее образование, один за другим находили возможность для этого переезда. Дворянским, тем более помещичьим, детям поступить в вуз было очень трудно. У старшей из дочерей, Татьяны, документы для поступления на филологичесий факультет приняли только на третий раз и то с условием подготовить к поступлению вместе с собой и некую женщину, комиссара, которая всячески помыкала ею, заставляла убирать за ней в их общей комнате в общежитии и не выказывала никаких талантов к учебе. Очевидно, тем не менее, со своей задачей Татьяна справилась, поскольку университет она закончила, работала по специальности, в том числе редактором в Детгизе. Тут уместно будет упомянуть, что ее дед по материи, Иоганн Динтер, купец 2-й гильдии и почетный гражданин Киева, имел на Крещатике большой книжный магазин и поставлял книги в киевский императорский университет Св. Владимира.
Одна из ее сестер, Галина, стала физкультурным врачом, работала в институте Лесгафта, другая - Ольга, или Люся, как ее все звали в семье, стала геологом. Двое из оставшихся детей Николая Георгиевича Калмыкова, Мария и Георгий, высшего образования не получили. Мой отец, поработав несколько лет чертежником на Балтийском заводе, пошел, в конце концов, по строительной части. На Коксогазовом заводе он, не имея специального образования, стал перед самой войной начальником отдела капитального строительства и оставался в этой должности вплоть до ухода на пенсию в начале 1970-х гг. Превращение бывших заводских газгольдеров, заметно украшающих вид Обводного канала, в цех металлокерамики – его рук дело.
В 1917 году моему отцу было 12 лет. Как личность, он целиком сформировался в годы советской власти. На фотографии начала 1920 – х гг. молоденький отец в песне со шнурком стоит в бригаде «синеблузников», бичевавших в своих спектаклях толстопузых буржуев, помещиков, попов и прочих отрицательных типажей старого режима. Он окончил педагогическое училище, преподавал в черчение, математику и русский язык. По всей видимости, на нем, как, впрочем, и на других детях, как и на мне, и на моей сестре Елене сказалась выбранная бабушкой стезя учительницы.
На одной групповой фотографии из семейного архива рядом с О.И. Калмыковой, своей учительницей, сидит девочка с серьезным, сосредоточенным выражением лица. Это моя мать, Шестакова Серафима Матвеевна. Я должен быть благодарен Октябрьской революции. Не будь ее, вряд ли смогли пожениться и обрести потомство сын помещика и дочь сельского писаря соседнего с Песчанкой села Знаменское. Ее дед, Лука Романович Шестаков был самым, что ни на есть черносошным неграмотным крестьянином. Ходил и летом и зимой босым, своего надела, насколько я помню материнские рассказы, не имел, нанимался к соседям и на пахотные и на всякие другие работы. Его сын – Матвей Лукич, выучился грамоте и по деревенским меркам выбился в люди. Дом у него был, в отличие от многих других соседских домов, «под железной крышей», как отмечала мать. Жил он с семьей на втором его этаже, а на первом держал лавочку.
Когда настала первая мировая война, его взяли в армию. В первом же бою он попал в плен, и провел в нем немало лет. После возвращения из плена, его, бывшего писаря, знавшего основы сельского судопроизводства, быстро сделали волостным судьей. Время было лихое, деревню начинали переламывать на колхозный лад, шло «раскулачивание» зажиточных крестьян, их осуждение, высылки. Работы деду, и, по всей видимости, работы неприятной, тяжелой хватало. Через несколько лет его сделали председателем колхоза. Легче ему не стало. Был момент, рассказывала мать, когда он сам чуть было не попал под тяжелую статью за «укрывательство» урожая. Весной он просчитался с оценкой будущего урожая по его всходам и занизил плановые показатели в сравнении с собранным зерном.
Как он смог выкрутиться, я не знаю, но, отсидев под арестом несколько недель, вскоре выехал на Урал, в Свердловск и там тихо жил у своего старшего сына Всеволода Шестакова, который в военные годы станет парторгом ЦК на Уралмаше, а в конце войны и до смерти в середине 1950-х - директором другого уральского промышленного гиганта: Уралхиммаша.
А моя мать также, как и отец, отучившись в Старом Осколе в педагогическом техникуме, вступила в комсомол, стала учительницей, а затем и заведующей школы. Было ей тогда всего 19 лет. Ее комсомольская молодость была бурной. Только незадолго до смерти, она стыдясь, рассказала, что и ей довелось участвовать в раскулачивании, что в нее тайком стреляли, однажды пытались поджечь школу, которую она охраняла по ночам.
Она рвалась уехать их родных мест в большой город учиться и работать, но ее, как ценного работника, под разными предлогами райком комсомола не отпускал, не давал направления в институт, без которого выехать было невозможно. Лишь в середине 1930-х гг. удалось получить путевку в Ленинградский Технологический институт. Она выучилась на стекольщика, начала даже писать диссертацию о промышленном производстве цветного стекла, накануне войны изготовила даже опытные образцы сваренного по ее технологии стекла.
В Ленинграде она вновь встретилась со знакомым еще по Старому Осколу Георгием Калмыковым. Ее, члена большевистской партии, долго отговаривали от брака с сыном помещика. В ее личном деле мне удалось прочитать подробную объяснительную записку матери по этому поводу, адресованную в т.н. «первый отдел» института.
В сентябре 1941 г. с маленьким ребенком, моим старшим братом Сергеем, последним поездом, прошедшим через Мгу, она вырвалась из сжимавшегося вокруг Ленинграда кольца блокады и уехала в эвакуацию в Свердловск. Отец остался. Остались и все его сестры, а О.И. Калмыкову они отправили самолетом за Урал. Великое счастье, что все они в годы войны остались целы и сразу после войны вернулись в ставший родной им всем город.
Наша семья из пяти человек, жила после войны в двух комнатах коммунальной квартиры на проспекте Огородникова. Сейчас этому проспекту вернули его дореволюционное название – Рижский. Получив это жилье, отец сам заделал в стене одной из комнат дыру от разорвавшегося снаряда. В отдельную трехкомнатную «хрущевку» на Средней Рогатке мы переехали в начале 1960-х. Наш дом, некоторое время бывший последним на юге домом в городе, строил в качестве прораба мой отец, закончивший к тому времени строительный техникум.
Живя в этом доме, все мы, дети Г.Н. и С.М. Калмыковых, получили высшее образование. Мой брат стал физиком, сестра – учителем русского языка литературы, а я закончил исторический факультет ЛГУ, в настоящее время уже более четверти века работаю в Музее политической истории. Я сам уже давно дедушка, моим внучкам-двойняшкам, дочерям старшего из двух сыновей, в этом году исполнилось по 18 лет.